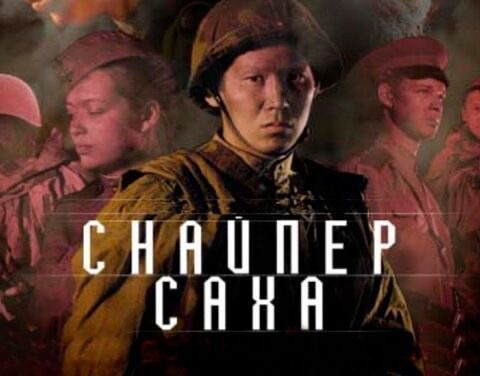«Чайка» в Севастополе

Режиссёр и артист – как устроен этот творческий тандем? Какими смыслами и энергиями он наполнен? На что можно закрыть глаза, выпуская спектакль, а чего нельзя терпеть ни при каких обстоятельствах? Согласитесь, интересные вопросы, которые в мире Театра никогда не потеряют своей актуальности.
В этот раз на них ответил главный режиссёр Театра имени Луначарского в Севастополе Григорий Лифанов. Диалог особо подогревала чеховская «Чайка» – пьеса, которую Григорий Алексеевич перенёс на театральные подмостки с глубоким уважением к классику. Интервью у мастера взяла член СП России О.Г. Ковалик

Накануне беседы с Григорием Алексеевичем Лифановым я была на поставленной им чеховской «Чайке». Спектакль меня поразил. Уж сколько пересмотрено «Чаек» – и театральных, и кинематографических, но только Лифанову удалось по-новому интерпретировать важнейшие сюжетные линии этой загадочной пьесы. В его версии все персонажи вступают в диалог с «новыми формами», которые проповедует Треплев. Причем эти «формы» пародируются в духе нашего времени, когда борьба с театральной рутиной стала поводом для бессмысленного хайпа. Так, Лифанов возвращает «Чайке» комедийный смысл.
О. Ковалик: Евгений Овсянников в роли Треплева открыл причину и смысл самоубийства своего героя. Его идея «общей мировой души» возросла до личного символа веры. Ему невыносимо жить рядом с воинствующей пошлостью, застрявшей в корыстных интересах. Самоубийство Треплева – вот единственно правильный выход из создавшегося положения. И этот роковой шаг чеховского героя надо понимать как метафору самоотреченности русской культуры
Г. Лифанов: Да, как говорил Чехов, «нет ничего страшнее, оскорбительнее и тоскливее пошлости». Каждый спектакль разный в зависимости от состояния актера. Иногда он может выйти на мощный философский уровень, а иногда играется с бытовой интонацией, приземленно, а это влечет разные выводы. Евгений Овсяников и Петр Котров очень разные актеры. Котров воплощает историю, более замешанную на любви к Нине и крушении идеала любви. А Овсянников берет глубже, поэтому его восприятию действительности изначально претят интересы всех остальных обитателей имения. Он не согласен, протестует и – как результат – ищет новые формы.
Любой человек начинает поиск нового, потому что его не устраивает старое, и он чувствует необходимость взять барьер между новым и старым. Однако и новые формы коварны, поэтому во втором действии Треплев, читая свои собственные произведения, понимает, что тоже сползает в рутину. Вообще, когда человек становится востребованным, он в какой-то момент осознает, что его ранее протестную позицию вводят в существующую политическую систему. Кто-то воспринимает это за удачную возможность реализации, а кое-кто не может через это переступить.
Вы верно угадали в Овсянникове-Треплеве, и в спектакле в целом, тему нежелания вписываться в пошлую среду, в пошлую историю ради достижения благ, когда актрисе, чтобы подняться по карьерной лестнице, надо лечь под известного драматурга или известного писателя, а тем ради успеха надо соблазнить большую актрису. Меня радует ваше открытие, потому что оно «чеховское», глубинное.
О.К.: Ваша «Чайка» стала событием моей театральной жизни. Вообще, благодаря вам Севастопольский театр имени Луначарского стал особенным, актеры явно вас вдохновляют, а они, в свою очередь, вдохновляются вашим творчеством. Также меня радует, что любимые вами актеры не становятся вашими любимчиками. Система фаворитизма пагубна для театра. Ваши актеры – это ваши единомышленники. Это чрезвычайно важно. Для вас актер – и цель, и средство…
Г.Л.: …Для меня актер – театрообразующее существо. Без актера нет режиссера. Я – посредник между драматургией и человеком, который разговаривает со зрителем. Свои эмоции я могу передать только через актера. Я могу ухватить и переработать эмоцию драматурга, которая меня зацепила, но только через артиста мне удастся донести ее до зрителя. Я очень люблю Театр Луначарского. За шесть лет труппа изменилась на 30 %, эти люди пришли со мной и, в общем-то, они мои актеры. Начиная с 2006 года, я каждое лето приезжал в Севастополь на постановку спектакля. Поэтому еще до назначения главным режиссером знал потенциал каждого актера…
О.К.: Мне, как и всем зрителям, хотелось бы больше ваших премьер, чтобы руководство города осознало масштаб вашего дарования и оказало ту поддержку, которая позволила бы вам не экономить себя.
Г.Л.: … Действительно, мне приходится ужиматься. Недавно я четыре часа сидел на репетиции канадского режиссера Робера Лепажа в Театре Наций в Москве. Возможности финансовые и технические у них колоссальные. Это очень интересный опыт синтетического, универсального представления, когда возрастает роль сценографических решений, современной хореографии. Режиссер уверенно осваивает мультимедийные приемы. К сожалению, тогда мне не довелось понаблюдать за его работой с актерами.
О.К.: Знаю творчество Лепажа по «Гамлету» с Евгением Мироновым во всех ролях и некоторым его оперным постановкам. Свой спектакль «Мастер и Маргарита» в Театре Наций он характеризует как «грандиозный технический замысел со множеством визуальных спецэффектов», с костюмами-трансформерами и приемом иллюзионистов «Призрак Пеппера», который позволяет «объектам появляться и исчезать, становиться прозрачными и превращаться из одного в другой». Зрительному залу предлагается «не раз в изумлении забыть, как дышать: когда на сцене соединяются два Художника – Булгаков и Лепаж – возникает настоящая магия»… Интересно, как среди столь сложных технических приспособлений он расположит булгаковских героев и как исполнители, воспитанные в духе русских театральных традиций, впишутся в мультимедийное пространство. Вашу постановку «Мастера и Маргариты» отличает очеловечивание даже самой нечистой силы.
Г.Л.: Да, мне кажется, что актер должен быть главным для режиссеров и не восприниматься как часть декорации.
О.Г.: По моим наблюдениям, из театра постепенно вытесняется театральный режиссер и ему на смену приходит специалист в области массовых жанров, который может поставить и оперу, и балет, и кинофильм, и эстрадный концерт.
Г.Л.: Если задуматься, то ведь Треплев – сторонник зрелищного, формального театра. Получается, он – режиссер, предвосхитивший наше время.
О.К.: Так может быть хорошо, что Треплев покончил с собой?
Г.Л.: Но ведь его «убил» Чехов! Понимаете? Я долго преподавал во ВГИКе, где при подготовке каждого студенческого спектакля мне приходилось делиться своими размышлениями, еще раз проговаривать задачи, долго объяснять, что не так, где не так, расставлять акценты. И так год за годом. Когда у меня появился свой театр, то какое-то время за моими постановочными навыками тянулся шлейф скрупулезной работы со студентами. А потом я понял, что сегодня было уникальное представление, завтра оно будет другим, и в этом суть живого театра. Есть образующие спектакль моменты, которые выявляют его общую идею, мысль, образы и финал. А есть моменты проходные, по поводу которых нет смысла волноваться, а значит, не стоит копаться в нюансах. В конце концов, я дал возможность актерам транслировать мое высказывание. Они, конечно, могут что-то растерять, я их верну к моему замыслу, но ведь в целом это уже не только мое высказывание.

О.К.: Думаю, тяжело смотреть свой спектакль, зная, что все в руках труппы, которая является вашим инструментарием. Артисты зависят от вас во время репетиций, но когда они на сцене, вы целиком зависите от них. Как вам удается совладать с самим собой?
Г.Л.: Раньше я был более требовательным, максималистом и перфекционистом. Сейчас мне уже не хочется тратить время на мелочи. Я вижу, что сегодня спектаклю не хватило глубины или менее чисто прошла перестановка декораций. В прежнее время я бы назначал новые репетиции. Теперь же считаю, зачем собирать труппу и промывать ей мозг, если я вижу, что общий замысел спектакля сохранен. Если актер эмоционально истощен предыдущими ролями и не смог вытянуть сегодняшнюю, я совершенно спокойно к этому отнесусь. Но если он путает текст, нарушает важную мизансцену, позволяет фривольность во внешнем виде, то это беда, профессиональное хамство. Я постоянно призываю артистов быть внимательными и ответственными.
О.К.: Вы довольны премьерой «Мнимого больного»?
Г.Л.: Я всегда недоволен собой. Когда репетирую, то стараюсь предугадать реакцию публики и спрогнозировать кульминационные моменты. А когда во время сдачи спектакля сижу в окружении зрителей, смотрю на сцену их глазами, чувствую движение зрительского восприятия, то принимаюсь беспощадно критиковать себя, обнаруживаю какие-то недоделки и в результате начинаю не любить свое произведение. Иногда наблюдаю режиссеров, которые выходят на поклоны восторженными, и недоумеваю: неужели возможно такое счастливое восприятия своей работы? Мне такое самоупоение не дано, я в этом отношении ущербный.
О.К.: Счастливая ущербность. «Мнимый больной» мне показался спектаклем, где вы подводите творческие итоги.
Г.Л.: …Я действительно в периоде подведения итогов. Мне 55 лет, наступило время раздумий, после чего надо будет принимать решения. Если созреет мое желание остаться в севастопольском театре, и труппа захочет продолжить нашу совместную работу всерьез и надолго, то тогда театру придется требовательнее относиться к городским властям. Для меня очень важен Театр Луначарского как один из важных культурных центров Севастополя не только для местных жителей, но и для всех, кто приезжает сюда. Мы вкладываем в спектакль в среднем всего миллион двести тысяч рублей. Но когда открывается занавес, сценическое оформление и костюмы кажутся очень дорогими. И все благодаря нашим замечательным цехам и талантливым художникам. Я убежден, что вклад в культуру – это вклад в будущее. Бисмарк говорил, что тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы. Смысл этого высказывания не изменится, если «школу» заменить «театром».

О.К.: У Пиранделло есть пьеса под названием «Шесть персонажей в поисках автора». А какие персонажи настойчиво стучатся в дверь вашей творческой судьбы?
Г.Л.: Ко мне стучится шекспировский «Король Лир», которого я очень боюсь, потому что насмотрено уже очень много, а значит, во мне существует стереотип и восприятия, и реализации этого произведения. А впадать в стереотипы в общении с таким Учителем жизни не хочется. Однако я подбираюсь в «Лиру». Эта трагедия больше всего возбуждает мое любопытство.

О.К.: Сейчас история короля Лира актуальна как никогда. В ней поставлен вопрос совместимости прошлого с будущим, может ли История чему-то нас научить. Мне дороги ваши спектакли и ваши замыслы: в них вы ищете образы грядущего времени. Вам удается погадать на классике, чтобы заглянуть в судьбы окружающего мира.
Г.Л.: Это интересная конструкция. Я воспринимаю мир классики как исходный материал для размышления над тем, куда мы движемся, куда идем…